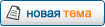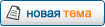Страница 5«Весна стоит в пальто коротком…» Весна стоит в пальто коротком
И утешает как умеет.
Не привыкай к военным сводкам,
А то душа окоченеет.
Не привыкай смотреть на карты,
Не то покроешься коростой.
Кто это время нам накаркал?
Чужой, нездешний ворон пёстрый.
Хочу, как мальчик, взять рогатку
И победить в лесу волчицу.
К щеке часов прижали ватку,
Из цифры восемь кровь сочится.
Луна на Пасху ляжет решкой,
И смерть не выйдет на работу.
Москвичка в утренней кафешке!
Не привыкай к донецким фото.
Не то тебя железом тронет,
Не в Волновахе, на Волхонке.
Ты слышишь, это время стонет
В обычной радиоколонке!
Отныне в церкви на Таганской
Россия будет ставить свечку
Блаженной бабушке луганской,
Не взявшей у фашиста гречку.
«А Горбачёву все эти тридцать лет…» А Горбачёву
все эти тридцать лет
Каждую ночь снится звон тридцати монет,
И за Берлинской стеной Гефсиманский сад,
Платья его жены на ветвях висят…
Ходит по саду юродивый в поздний час.
Снова к нему Горбачёв: «Помолись за нас!»
Плачет блаженный у мокрых могильных плит.
Шепчет в ответ:
«Богородица не велит…»
А на могильных плитах следы времён
И миллион миллионов живых имён —
Тех, кто погиб,
тех, кто не был рождён,
а мог,
Если б другого правителя дал нам Бог.
Но Горбачёв не Иуда, ему ль грустить?
Он оправдал себя, он будет вечно жить!
Пиццей отравленной паству кормить с руки.
Войн и конфликтов всё праздновать огоньки!
Он не Адольф, не Борис, не какой-то Буш!
Первой-последней леди советской муж!
Всем Карабахам-Донецкам – физкульт-привет!
В Мюнхене Русью не пахнет и Бога нет.
«Носи как маленькую икону…» Носи как маленькую икону,
Смотрящую сквозь века,
Медаль на ленте
«ЗА ОБОРОНУ
РУССКОГО ЯЗЫКА».
И кто б ни значился на обложке,
Упасть не старайся ниц.
Корми кириллицей
с чайной ложки
Детей и поющих птиц.
Пусть припадают к бортам моллюски,
Услышав чужую речь.
А в плен возьмут —
ты молчи по-русски,
Чтоб шапки врагов поджечь.
Пусть время колется
злей и горше,
Теперь до Победы стой
За Дальний Восток!
За Донецк!
За Оршу!
За русский язык родной!
«А из радиоточки…» А из радиоточки
Только сырость и грусть.
«Капитанскую дочку»
Надо знать наизусть.
Чтоб весны фонограмма
Дотекала до рук.
Там, где Пушкин и мама,
Там и Родины звук.
Так, про что эта повесть?
Растолкуй же ты мне!
Про любовь, и про совесть,
И про службу стране.
Мы за прошлое платим
И радеем, дружок,
Кто за честь, кто за платье,
Кто за лучший денёк.
Наши страшные ссоры
Завершит этот год,
А заморскому вору
Скоро срок свой придёт.
Ярче солнечной стружки,
Что горит без конца,
Лишь Россия и Пушкин,
Да могила отца.
Временно уехавшие (басня) Лейтенант-пограничник открыл калитку
И глядит на бегущую прочь элитку:
Прошмыгнули два голубых паяца.
«Нам, – говорят, – совесть не позволяет остаться!»
Пристроиться к ним норовит
Блогер с плакатиком «Стыд!»,
Актриса в наряде парчовом
В образе жены Горбачёва
И две пацифистки-нимфетки,
Которым срочно нужны таблетки.
Давятся они утром на взморье повидлом,
Всех, кто в России, считают быдлом.
Но следят внимательно за новостями:
«Что же творится там в русской избушке?»
И поверьте, скоро
вернутся и вас растолкают локтями,
Чтобы снова пробиться к кормушке.
По окончании истерики элитка
снова будет мелькать на телике
И вопить: «Как нам всё это обрыдло!
Особенно
русское быдло!»
А может, смести их каналы и паблики?
Паяцы стоят у станков пусть на фабрике!
Блогер стыдливый картошку копает!
Актриса детей на коняшках катает!
А утром на телике
Катается Электроник на велике…
«Запад с Востоком садятся за общий стол…» Запад с Востоком садятся за общий стол.
Молодая кровь между ними в хрустальной чаше.
Запад: секс, наркотики, рок-н-ролл.
Восток: это не наше.
А в ногах у них жила нефти и море слёз,
И собака из фильма Тарковского вдруг рычит.
Запад: теперь футбол,
там, где был Христос.
Восток молчит.
Города – это мир парикмахерских и аптек.
А в степи только ветер и сверху звезда пасётся.
Запад: мужчина + женщина – прошлый век.
Восток смеётся.
Между ними в солдатской фляге запас воды.
И поэт непонятный страну называет Тройка.
Запад стар, но под маской выглядит молодым.
Восток на руке может
сделать стойку.
Ты закрыл глаза и считаешь до двадцати,
Вспоминаешь о детстве советском своём далёком.
Но ведь это война,
мой милый, как ни крути.
Хоть мы все за мир между западом и востоком.
Донецк-2014 Я – Донецк.
На дне реки
терновый венец.
Один шахтёр
Увидел во сне
Петра с ключами
От райской шахты.
И отошёл
от житейской вахты.
Я – Донецк.
Город-вдовец.
Отец
с рваными лёгкими.
Я любуюсь вами,
Москвичами далёкими,
Добрыми,
Прыткими,
Имеющими
повадки актёров…
Когда-то вы мне посылали открытки,
Поздравляли
Родственников-шахтёров…
Теперь приезжайте,
Потрогайте
щёки домов,
Посмотрите
на шахтёров —
Волхвов
с чёрным камнем
даров,
Покурите мной
на проспекте Артёма.
Но вот эти
серые ангелы
Со львовского аэродрома…
Они хотят есть донецкую пыль
на ужин?
Я им нужен,
как нужна Румыния
Вашингтону…
Они хотят повесить мою икону
В европейском музее
для новых перформансов
Вверх ногами,
Чтобы делать из моей души
Оригами?
Пусть тогда своей смертью
кормятся
Через кляксы
Французских комиксов
Эти мелкие бесы.
А
Хотите секрет открою?
Старики мне
вчера передали
Сорванную
с платья Одессы
звезду героя…
Я не принял.
Не надел на робу.
Пусть ожидает
Конца хворобы
В заводском сейфе.
Эй, Москва,
Давай
Сделаем с тобой
Селфи!
Новая жизнь
Пьёт весну
Из шахтёрской каски.
Третий год я, кажись,
На посту без Пасхи.
Я – Донецк.
И это начало,
а не конец.
РжевПосвящаю своему отцу Валерию Васильевичу Маленко Мы весной поднимаемся в полный рост,
Головами касаясь горячих звёзд.
И сражаемся снова с кромешной тьмой,
Чтобы птицы вернулись сквозь нас домой.
Чтобы солнце вставало в заветный час,
Чтоб вращалась, потомки, Земля для вас.
Чтобы траву обдували ветров винты,
Чтоб из наших шинелей росли цветы.
Мы теперь – земляника на тех холмах,
Мы – косые дожди и ручьи во рвах.
Наших писем обрывки, как те скворцы.
Мы – медовые травы в следах пыльцы.
Нас в болотах небес не один миллион.
И в кармане у каждого медальон.
Это зёрна весны.
Это горя край.
Сорок пятый
настырный пасхальный май.
Вася, Паша,
Серёжа, Егор, Рашид…
Среднерусской равнины пейзаж расшит
Нами, в землю упавшими на бегу…
В небеса мы завёрнуты,
как в фольгу.
Вам труднее, потомки, в засаде дней.
Наша битва с врагами была честней.
Мы закрасили кровью колосья ржи,
А на вас проливаются реки лжи.
Мы умели в атаке и песни петь,
Вас, как рыбу, теперь заманили в сеть.
И у нас на троих был один кисет,
Вам же «умники» в спины смеются вслед.
Нам в советской шинели являлся Бог,
Наши братские кладбища – как упрёк.
Вас почти что отрезали от корней!
Вам труднее, наши правнуки, вам трудней!
Мы носили за пазухой красный флаг,
Был у нас Талалихин,
Чуйков,
Ковпак!
И таких миллион ещё сыновей!
Вам труднее, прекрасные, вам трудней!
Произносим молитву мы нараспев:
«Пусть приедет последний из нас во Ржев,
Чтоб вспорхнули с полей журавли, трубя,
Чтоб, столетний, увидел он сам себя!
Молодым, неженатым, глядящим вверх,
В сорок третьем оставшимся здесь навек,
Чем-то красным закрашенный, как снегирь,
Написавшим невесте письмо в Сибирь».
Не кричите про Родину и любовь.
Сорок пятый когда-нибудь будет вновь.
С головы своей снимет планета шлем.
Вот и всё.
Дальше сами.
Спасибо всем.
Дмитрий МельниковКенотаф На Площади ПобедыI Я видел Гераклита – он спал на земле, он спал,
обняв рукой автомат, бряцающий, как кимвал,
Я видел Гераклита – он спал на земле, ничей,
и ползал снег по нему наподобие белых вшей,
и мирная жизнь приходила к нему во сне;
война лежит в основе всего, но только не на войне.
Корни в земле пускающий, как женьшень,
Гераклит говорит, что сердце моё мишень,
Гераклит говорит, что сердце моё лишь цель…
для бессмертной любви, и оно превратится в цвель,
в дым, бетонный пролёт, ржавый чугунный прикид,
в мост и звезду над ним,
которая говорит.
В краматории, в крематории
на пригорках горят цикории,
словно венчик природного газа,
голубого русского глаза.
В краматории, в крематории
на дорогах потёки крови, и
вылезают из-под руки
бледно-розовые кишки,
и клюёт некормленый петел
человеческий жирный пепел,
это, мамочка, ничего,
это братское торжество,
что заходит над детским садом
самолётик, смазанный салом,
и глаза с голубым оскалом
эуропэйские у него.
Молодому лётчику нынче снится,
как он нижним фронтом бросает ФАБы,
в воздухе летят, запрокинув лица,
дети нарисованные и бабы.
Вот ещё одна голова взлетела,
поглядела глазом пустым в кабину.
«Что же ты наделал, – прошелестела, —
как же не узнал ты родного сына?
Спрятался я, папа, в кусты картопли,
потому что я маленький и глупый,
мама надо мной испускает вопли,
видишь, как у мамы дёргаются губы?
Но зато теперь не пойду я в школу,
поднимусь по лесенке в свет кромешный,
помни своего сыночка Миколу,
приноси мне камешки и черешни».
Лётчик спит, и свет ползёт к изголовью,
аки тать, и нет никого,
в небесах, объятых огнём и кровью,
лесенка стоит для него.
В гору поднимается душа без изъяна,
перед нею Пётр в чинах эцилоппа.
«Я жена взрывателя, – говорит мембрана, —
в бежецком котле за пучком укропа
варятся мои промокшие берцы,
жёлтая мабута, покрытая солью,
будь так добр, апостол, подай мне смерти,
я свои грехи искупила кровью,
что же ты глядишь на меня, улыбаясь,
где моя желанная смерть вторая?»
Пётр, гремя ключами от гравицапы,
рукавом космического хитона
отирает лицо от кровавого крапа
чуть живой души, из ларингофона
сквозь помехи доносится голос Бога:
«Всё в порядке, Камень, не медли, трогай».
Солдат удачи и ко начинает сезон продаж
внутренних органов: печень, кишки, купаж
из костей и нервов – хотите невров?
Мальчика на запчасти? – Всё равно он теперь ничей.
Мистер Шмайден торгует мышцами палачей,
вагинами малолеток… Надоело жить по старинке? —
купи себе новые лёгкие и учись играть на волынке.
Покупайте оптом, дешевле, почти что даром —
мы теперь всегда с ликвидным товаром!..
Они сыграют ему «Янки Дудль» напоследок,
они приспустят флаг над лужайкой жёлтого дома,
звук на миг зависнет над стайкой рабов и деток,
над могилой папочки-дуролома,
важный пастор скажет – не время пустых речей,
разбирайте беднягу Шмайдена – он ничей…
Яблоки в саду на земле, полумрак, холод,
нас несёт в неизвестность, нас окружает бедность,
и неважно, какой это год и какой город,
ибо ты излучаешь свет и моя нежность
спрятана глубоко в тебе,
спрятана глубоко в тебе,
как янтарь в кембрийской сосне,
как бабочка в тишине,
как солдат, летящий во тьме
в пылающем геликоптере.
Вертолёты – души убитых танков,
чьи глаза забиты кровью и глиной, —
словно чуя свой же мертвецкий запах,
долго кружат над сонной лощиной,
ничего не видя на экранах прицелов,
что случилось, толком не понимая,
огненное небо на новое тело,
как бушлат прожаренный, примеряя,
а потом уходят в сторону света,
и мне улыбаются их пилоты.
Жаль, я не узнаю, зачем всё это,
кем потом становятся вертолёты.
В поле дует суховей.
Выйдешь с древния иконы
Богородице своей
бить о дождике поклоны.
Вот такие наши дни,
вот такое наше лето,
снова человек войны
обернулся вспышкой света,
снова человек труда,
чтоб мы жили, как в европах,
не вернётся никогда
из оплывшего окопа,
из размытого весной,
точно горькими слезами,
ну давай, пойдём со мной
в гости к украинской маме,
ничего не скажем ей,
ткнувшись в старые колени, —
матери своих детей
ищут по долине тени,
только те в ответ молчат,
кто на русском, кто на мове,
изувеченные, спят
в чёрных лужах общей крови.
Злонамеренных мёртвых прошу подавать свой голос
на листочках без подписи,
тех, кто погиб в Афгане
или Чечне, – на бурых, залитых кровью,
малолеток, сгоревших на киче,
прошу прилагать уголь,
старый полкан Хоттабыч,
спаливший детей бензином, и ты,
свинорылый кум Маргарин,
в твоих глазах, голубых, как медбатская грелка,
однажды мелькнула жалость, ну вот,
приложи один глаз вместо вотивной таблички,
он пойдёт за двоих, ты всегда был пьян, а ещё —
кто там стоит в отдалении, тихо воя?
Девочка кладёт голову на плечо
тощей старухе, зачем они снова плачут?
Нет, это всё ни к чему, мирняк расстрелянный – мимо,
им нельзя давать голос, их слишком много,
они должны быть в раю… Итак, у меня вопрос:
остаёмся мы здесь, товарищи, или
ищем себе новые воплощенья
и приносим в мир ещё более благочестья?
Ад готов нас принять, но у меня в руке
пара носков шерстяных, их связала мне бабка,
слепая, как крот, наощупь, теперь это что-то,
вроде монгольской пайзцы, пропуск на путь обратный,
в мир, где цветёт черёмуха и на болоте
вереск дрожит и так тихо, что слышно,
как ворон, крылом рассекающий воздух,
летит, летит, летит… но о чём это я, голосуйте
или за новую жизнь, или за ту, что привычна,
с жаром, котлами и прочими ништяками.
Вата переходит в дым,
в дым над белой хатой,
улыбаются живым
дети и солдаты.
Как инверсионный след,
как в груди осколок,
вата переходит в свет,
переходит в холод.
Улетает налегке,
дарит нам прощенье,
лишь у девочки в руке
красное печенье.
«Тебе дадут посмертно орден…» Тебе дадут посмертно орден.
Господь решит, что ты пригоден
для освящения даров.
Ты станешь молод и здоров.
Получишь новую работу.
Получишь ангелов до взвода.
В буквальном смысле – небожитель,
ты вспомнишь каждого из них,
и вы над степью полетите
прикрыть оставшихся в живых.
Вот так, непостижимо просто,
ты стал космического роста,
стал к вечному причислен дому
и равен русским небесам.
А кто ты там по позывному,
допустим, Гиви или Корса,
или зовёшься по-другому,
Господь, конечно, знает сам.
«Это свет на холме, это дом мой в огне…» Это свет на холме, это дом мой в огне,
это время прицелилось в голову мне,
грязный палец кладёт на крючок спусковой,
ну давай уже, плёвое дело,
только пуля уходит опять по кривой
и вонзается в детское тело.
Снова женщины будут осколки считать
на красивых своих огородах.
Снова в мазанке чья-то закинется мать,
и за гробом немало народу
по сухому степному погосту пройдёт
положить меня в чёрную яму.
Это время мне в сердце без промаха бьёт,
это я там напудренный, мама,
мальчик, девочка, женщина или старик,
или ты – не имеет значенья.
Бьёт над степью донецкой кровавый родник
и живых призывает к отмщенью.
16 октября 2018 года
«С утра снаряд прошивает дом…» С утра снаряд прошивает дом,
убивает отца и мать,
теперь я один проживаю в нём,
спрятавшись под кровать.
У кошки кровью сочится глаз,
сгорела шерсть на лице,
но снова наводчик, не торопясь,
подкручивает прицел,
и снова флажок поднимает палач,
и новый летит снаряд,
не бойся, котя, не плачь, не плачь,
им за нас отомстят.
«Напиши мне потом, как живому, письмо…» Напиши мне потом, как живому, письмо,
но про счастье пиши, не про горе.
Напиши мне о том, что ты видишь в окно
бесконечное синее море,
что по морю по синему лодка плывёт,
серебристым уловом богата,
что над ним распростёрся космический флот —
снежно-белая русская вата.
Я ломал это время руками, как сталь,
целовал его в чёрные губы,
напиши про любовь, не пиши про печаль,
напиши, что я взял Мариуполь.
Напиши: «Я тебя никому не отдам,
милый мой, мы увидимся вскоре».
Я не умер, я сплю, и к моим сапогам
подступает Азовское море.
31 марта 2022 года
«Опять гремит за терриконами…» Опять гремит за терриконами,
опять по городу прилёт.
Любовь с глазами воспалёнными
по нашей улице идёт.
Садится у окна на лавочке
под самый яблоневый цвет:
«Здесь жил хороший мальчик Ванечка.
Красивый мальчик, спору нет.
А бабушку его вы знаете?
Такая, круглый год в пальто.
Да, у неё проблемы с памятью.
Конфеты любит? Нет, не то.
Она их покупает с пенсии
и носит Ване на кровать,
там шторы новые повесили.
Ну как? Не можете не знать.
В той комнате, в той светлой комнате,
там, где теперь его портрет,
жил мальчик Ваня – вы запомните.
Запомните, что смерти нет.
Я говорю вам – всё кончается,
и боль, и слёзы, и война,
а в жизни той, что начинается,
останусь только я одна.
Я не меняюсь – вы меняетесь.
Становитесь другими, да.
Н у, улыбнитесь. Что, прощаетесь?
Я здесь. Я с вами. Навсегда».
«На той войне, на той войне…»На той войне, на той войне
часы ты видел на стене,
все умерли, они ходили,
одни в разрушенной квартире
они ходили, как могли,
вот здесь, на краешке земли,
они смотрелись как осколок
уюта, тишины, тепла,
напротив, со ступенек школы,
шатаясь, женщина сошла,
какой-то дед из серой мглы
тебе кричал: «Не уходите!»,
ещё ты клёны в парке видел,
их расщеплённые стволы.
На той войне, на той войне
ты видел девочку в окне,
она тебе рукой махнула,
на ней был вязаный платок,
ты видел – танковое дуло
рождает огненный цветок,
и там солдат перебегал,
танк выстрелил – солдат упал,
контуженный взрывной волной,
как он домой теперь вернётся,
как он теперь придёт домой,
тогда ещё светило солнце,
потом пошёл под утро дождь,
потом ты ел из банки борщ,
потом ты ложку потерял,
потом опять ходил в атаку,
потом ты спал, потом ты спал,
во сне к тебе пришла собака,
и вы с ней долго обнимались
и радовались, как могли,
и два воробышка купались,
купались в золотой пыли.
«Жизнь занятная штука, Настасья…» Жизнь занятная штука, Настасья,
иногда посреди темноты
небеса замирают от счастья
и роняют на землю цветы.
И стоит, занесённый цветами,
словно снегом, наш утренний сад,
и жуки потрясают рогами,
и кроты защищают кротят.
Глубоко под корнями растений
есть в другую Вселенную лаз,
и оттуда являются тени
мужиков, что погибли за нас,
и стоят над твоим изголовьем,
и на лавках сидят во дворе,
и уходят назад по кротовьей
световой дальнобойной норе.
Дмитрий Молдавский«Поэту таланта мало. Поэту нужна судьба…»Анне Долгаревой посвящается Поэту таланта мало. Поэту нужна судьба.
Талант питается жизнью, а не чужими книгами.
Разыгрывается партия. Фигуры по полю двигая,
Божья рука управляет позицией и интригою.
Ты изначально пешка, сила твоя слаба.
Ты не видишь общей картины. Соседних фигур две-три,
а когда, до кого из вас и дойдёт ли очередь,
знает только Гроссмейстер. Жди и копи внутри
энергию потенциальную, сам с собой говори,
чтоб вовсе не онеметь. Хоть какую-то о́чевидь
пытайся осмыслить, вобрать в голову или в грудь,
зарифмовать, структурировать в строки, четверостишья:
клетку перед собою, куда бы ты мог шагнуть;
клетку через одну, куда б тебя мог метнуть
Игрок; насущную клетку, где ты пережидаешь затишье.
Появятся первые бреши в дружественном строю.
Промчится бешено конница в рубке остервенелой.
В какой-то момент, возможно, ты приблизишься к королю.
Но ты же стоишь как вкопанный! Что я за чушь порю?
Он сам за тобою спрячется! Чёрный он или белый?
Ты можешь сказать ему пару ласковых слов
или блюсти устав: равнение на середину!
Но помни, что битва в разгаре. Братья теснят врагов,
а может быть, отступают. Главное, будь готов,
ранец походный заранее вскинь на спину.
Готов, не готов – подхватит тебя рука Игрока,
ты воспаришь над полем навстречу судьбе и цели.
За хаосом взрывов, земли изгибов, сквозь пороха облака
успей разглядеть, кто остался в живых из твоего полка,
попробуй осмыслить масштабы сраженья и цену
победы и поражения: сколько уже внесено,
а сколько придётся доплачивать, чашу весов склоняя
в нужную тебе сторону, если вообще оно
возможно и достижимо – кровь тебе не вино,
можно и не дождаться следующего урожая.
Что бы ты ни увидел, знай: у тебя есть миг,
прежде чем, грянув оземь Финистом – соколом ясным,
окажешься в гуще боя, хорошо бы среди своих;
но всяко бывает. Бог знает, какой гамбит
разыгрался в мире, сейчас, на глазах твоих,
становящемся из чёрно-белого чёрно-красным!
Допустим, пройдя сквозь пекло бомбёжек и штыковых —
лоб в лоб – атак, на последней горизонтали
ты встретишь победу в числе немногих живых,
даже, возможно, выбившись из рядовых,
не в орденах пускай, но и не без медалей.
Тогда и настанет время вспомнить, что ты поэт.
Раны, ожоги, рубцы, испещрившие память, —
это и есть судьба, – даже если желанья нет,
если талант угас, ты обязан извлечь на свет
не для того, чтобы вылечить и исправить;
это и невозможно. Но новых предостеречь,
дабы не повторяли, но были меж тем готовы
враз – по команде – встать, а по жр*бию – порознь лечь
за короля, за друзей, за родную речь,
за чёрно-белую землю – по предначальному Слову.
Но цену общей победы знает один Творец,
и, если тобою жертвуют, не выпускай оружие.
За други своя погибнуть, как воин и как боец,
не перестав быть поэтом, – эта судьба не хуже!
09.06.2022
«Мой завод древнее мамонтова говна»…» «Мой завод древнее мамонтова говна» —
Так сказал остроумный механик.
Я ему верю на слово, ведь слово механика – весомее чугуна.
Это роднит механиков и поэтов.
Создавался завод в относительно мирные времена,
когда даже Русско-японская не планировалась война.
На волне индустриализации задач было до хрена.
Начинали с водопровода. Докатились до велосипедов.
Такие уж были люди, такая была страна:
делали что хотели, от крейсера до рядна.
Сам государь-император и (немка) его жена
не только не возражали, но и поощряли это.
Однако Русско-японская, за ней – мировая война,
заодно с войной – революция (да три ещё, не одна!)
ждать себя не заставили.
Страну развалили на хрен!
А завод для фронта и для победы
вовсю собирал самолёты из фанеры и полотна.
И лучшие в мире лётчики, вчерашняя пацанва,
седлали их, как Пегаса: где узда там, где стремена? —
и кто в штопор, кто в пе́тлю (чем тебе не поэты)!
Страна полыхала годами, словно нетленная купина́.
Все пили и проливали кровь вместо вина.
Достигали, чего – неведомо. Почти что достигли дна.
Четырёхлетним Лазарем с того воротились света.
Подустали скакать, как по прерии краснокожие племена.
Как умели, вождя схоронили – Ульянова-Ленина,
а сменил его тот, в чьём имени воля была стальна
(и не надо дискуссий, рассказ вообще не про это).
Наступила мода на новые облики и имена.
Мой завод национализировали, окрестили его «Коммунар»[6]
(отличное имя для парня, не какой-то там ГлавЛётНар —
ХренПойми имени какого-нибудь предкомбеда)!
Я не желаю пафоса. Хватит и без меня
авторов, чья поэзия «ахами» пленена.
Если возможно, Отче, да мимоИдетъ она —
чаша Большого Стиля, Имперского бреда!
Но слова из песни не выкинешь, когда повторилась война,
завод не сказал народу: дело моё – сторона.
Обоим нужна победа, и – сколь ни огромна цена —
каждый вносил свою лепту, никто не «недо».
Чем ближе стоишь к истории, тем хуже она видна,
силён соблазн упростить, перепрыгнуть с пятого на
десятое, раз уж даты, свершения и имена
запросто узнаются из интернета.
Вспомните Петю Нестерова, Юру Гагарина,
перечитайте заслуги, потрогайте ордена.
История продолжается. Ссылка прикреплена[7].
Я, как умел, сказал. Что хотел, поведал.
Я подойду к механику, давай, скажу, старина,
достанем из сейфа спирт, разведём на два стакана́,
чтоб Горбачёву с Ельциным ни покрышки, ни дна:
такую страну похерили, дерьмоеды!
Шутка ли: славим Бога, что снова пришла война,
и, может, от нас потребуют стали и чугуна.
Хотя бы такою ценою выберутся из говна
русские люди, механики и поэты!
Я работаю на заводе десятый год
и общаюсь с людьми, что служили ему полвека.
Чем сильнее обида за сердце меня берёт,
тем острее в себе я чувствую человека.
Обходя корпуса, забираясь на чердаки,
в полутёмных подвалах тягая воздуховоды,
вижу на расстоянии вытянутой руки
я историю и судьбу своего народа.
6. Ради красного слова грех не соврать, но для зануд и для рефератов детям сознаюсь, что «Коммунаром» его начнут называть в 1963-м.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дукс_(завод).